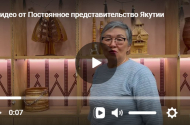Сергей Арутюнов: «Убить Ленского»

…Непостижим, единствен в истории каждой страны миг, в который ещё вчера «недурственно писавший то стихи, то статьи» словесник обращается в национального поэта, «с нуля» творящего язык нации.
Мало ли, в конце-то концов, их, этих мальчиков из хороших семей, с неплохим, пусть даже элитным образованием да скромной службой у кого-нибудь на посылках? Во все времена – навалом.
В каждое своё роковое десятилетие-два, грозящие им схождением в пыльную тишину, метят они куда как высоко – не в окружающую их пошлость «света», где различимы среди одна-две дружеских фигуры, но за облака, их сияющие кромки. Путь их исполнен падений и сопутствующих им ушибов и кровоподтёков. Мало кто добрался.
С неделю назад, вместе с новым, 2019 года, лауреатом Патриаршей литературной премии Александром Стрижёвым, его внучкой Сашей Стрижевской, окончившей Литературный институт у драматурга, главного редактора «Даниловского благовестника» Владимира Малягина, я второй или третий раз попал на светлое радио «Вера», что в Андреевском монастыре.
День был обжигающе жарок, ясен, в склонение его к вечеру долго не верилось – солнце сияло над вековыми деревьями, как влитое. За метровыми стенами, пластиковыми стеклопакетами, распахнутыми едва не настежь, проносился временами свежий порыв поздней весны, летнего кануна.
В комнатушке звукорежиссёра, ожидающие своей очереди, поставили мы кружки редакционного чая: брался дистанционный комментарий к пушкинской дате у ректора Литинститута Алексея Варламова, моего непосредственного шефа.
Ректор говорил, как показалось, небывало спокойно и просто. Фраза его о том, что «Онегин» был романом автобиографическим, отразилась от моего внутреннего естества так, что я на несколько часов забыл о ней…
Только два героя и есть в «Онегине» - Татьяна да Ленский. Заглавный протагонист не в счёт, потому что от него и отбивка. Онегин – Пушкин.
В 23 года, когда начинался роман, многое ещё не было решено в той судьбе, хоть и многое и оставлено навсегда. Лишь к концу предпоследнего семилетия своей жизни претендент становится достойным избранницы. Вот и весь сюжет, и потому роман – о взрослении, и потому – вечен.
Обманчиво представляться себе зрелым и искушённым настолько, будто бы можешь отвергать… собственно, кого?
«Татьяна – русская душою»… Россия.
Когда ты молод, Родина неизбывно кажется тебе слишком простоватой, дикой, угрюмой даже в майском цветении одуванчиков, и если простоватость эта и забавна, то ненадолго. Ну её… слишком обдергаиста, порывиста, так и приникает губами мороза, хочет навек законопатить в подслеповатое окошко своё наскоро сварганенной замазкой, спрятать от мира в погреб запотевшей бражной флягой. А ты – пенишься, ждёшь выхода, выезжаешь!
Влекут, влекут неисцелимо иные берега, странствия, что для русского сердца (и «света») от века знаменуют меру таланта. Даровит – значит, прославлен, понесён по городам и весям тройкой храпящих коней – Пушкин, Пушкин едет! – да только уж не «ляксансергеич-батюшка-отец-родной», а звучно, как в бальной зале – Александр! «Дней александровых (какое-то там, «прекрасное», например) начало» - произнесено со слышимым удовольствием: надо же, а царь-то – тёзка! Знак, знак, непременно знак…
Удостоиться любови Отечества – это вам не Анну и даже не Святослава с мечами на лацкан схватить! В поэзии верят больше всего тем, кто зачат в языке самой достоверностью, а если избегают, «искусственников», выкармливаемых из пробирки крючкотворной книжности. «Нет, барин, ты нам сразу всего себя подавай, как есть, а мы поглядим, каков ты есть». Вот, опять же, Серёга Есенин – хоро-о-о-ош! Глянь-ка, косоворотка сбилась, ворот порван, будто б и фингал под глазом. Наш, наш, как есть, наш!
Вот барин и выдыхается.
Любовь России – не Анна. Не Святослав. «Прекрасное образование», «лицейская закваска» (между прочим, единственная духовная родина для отданного на заклание казённым местам и полюбившего их, как колыбель сознания) формуют и прессуют исключительно по-своему, и в какой-то момент начинают притормаживать безбрежье духа. Доказательства? Да те же самые лицейские друзья, которых – не родителей, не няню, не брата! – звал в бреду, которых только и любил, словно плюшевых мишек-зайцев, сжимаемых по ночам детской ещё слабой рукой: «А Сашка-то был – поэт!» - после гибели, славы всероссийской! Слепцы.
Именно лицейские-то братья и считали его слишком своим. Какая там эпическая дистанция! Заехал как-то поздно, устал, чем-то раздражён, но быстро оживился, хохотал, шутил… выпили, поболтали, во втором часу спать легли, утром уехал – вот и всё отношение к «Сашке». Да, мог занимать у них в крайней надобности, но и всё. «Духовная близость»… не к жене же с ней идти.
Ленский собирается шаржем, карикатурой на сущность, которую едва-едва не вывел в Пушкине навсегда обожаемый Лицей. Каковы были образцы поэзии, которыми пичкали тогдашних молодых? Байроническая галерея: все равны, как на подбор – патлаты, высоки, мрачны, единым духом Ла-Манш переплывают. Этакие вне времени и пространства супермены, поднявшиеся над своими нациями усилиями оторвавшегося от них Духа. Э-ге-гей, навались, братва, клячу истории загоним, левой-левой! Комиссары космоса.
Пушкина забрасывало в пространства безвоздушные, надчеловеческие, пространства без веры, надежды, самой любви. Будто толкиеновский Фродо, будет он раз за разом надевать закатившееся к нему и к иным русским юношам кольцо всевластия и слышать от Неусыпного Ока: «Здесь для тебя нет ничего, только Смерть!».
Ленский-лицейский. С романтическим космополитизмом придётся расставаться мучительно: в «Маленьких трагедиях» будет, как для будущего Нюрнберга, разоблачена суть «Коллективного Запада» как ужас людей, решившихся жить по самоволию.
Не волен человек в судьбе своей, а волен лишь в поступках, то приближающих, то отдаляющих её. Эту страшную тайну, заключённую в Православии, национальный поэт почувствует, как самую сокровенную. И напишет ещё одну, и тоже насквозь автобиографическую, «Капитанскую дочку» - о России, которая его – приняла, и заступилась за него.
Выстрел в Ленского – выстрел в самого себя. Над милым телом, стремительно охладевающим, будут пролиты потоки покаянных слёз. Отныне – годы странствий, озаряемые предчувствием, как приближающегося посмертного триумфа («Памятник»), так и сопутствующей ему зловещей неудачи – «Но я другому отдана…» (эхом - «Я хочу быть понят родной страной…»).
Ленский – это язык, поддающийся переводу. Международный. Говори Пушкин им до преклонных лет, и был бы, глядишь, признан своим в салонах Бирмингема: «конечно, русский, но как старался!» - по сути, ради реплик всяких там Форсайтов, наживших себе состояние на колониальной работорговле.
Но вот вопрос… убийством ли мрачного красавца, кровного брата, себя самого можно достичь облаков? «И не был ли убийцей создатель Ватикана?» - шепчется в полуобморочном экстазе оправдания… принесённой жертвы. Байронизм, поверженный пулей, заворачивается в погребальные пелены, но память о нём жива в веленьях света.
Выбор был: инерция подстегнула. Дантес – не Кукольник, романтизм отомстил.
Не Татьяна, и не Наталья – Россия склонилась над мёртвым Пушкиным и приняла его, и защитила уже в посмертных странствиях.
Есть у поэтов такой приём – от противного. Желая страстно, они заготавливают обстоятельства так, чтобы сбылось «против предположений».
«Нет-нет, вы не полюбите меня, я вам не пара, пришёл, видите ли, из другой страны» - выстрел, слава.
Пара, пара. Два сапога.
Провидел и Ланского (Ленского), взявшего по себе Наталью с детьми, провидел и Памятник, и удар немецкой бомбы в фамильный склеп. Всё открылось ему, стоило только причаститься ему самым тайным, скрытым, неведомым – Любовью.
Как сделаться теперь подобным ему? Какую жертву принесть? Не велеть ли, в самом-то деле, кобылку запречь? Только какую кобылку, и во что, собственно, запрягать? Нет уж дней тех светлых боле, когда и возки, и кобылки ждали хозяев своих, и нет тех станционных смотрителей, что позволили бы увезть своих дочерей из глуши во славный град Петров. И град не тот, и на станциях одни бабки с вёдрами.
Всё другое.
Но и при нём было – другим.
Сегодня Вознесение Христово.
И день рождения его.
Блажен, кто видит их внутренним взором простирающими руки свои над нами и над светлой июньской Москвой.
Над Россией.